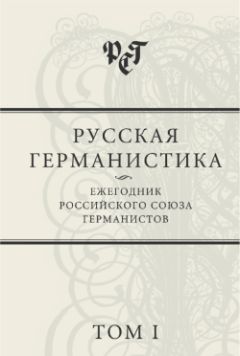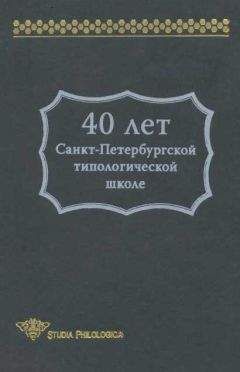Татьяна Шеметова - Пушкин в русской литературе ХХ века. От Ахматовой до Бродского
Характеризуя земное бытие, критик оперирует понятиями «уродство и пошлость обыкновенной жизни», «ужас обыкновенной жизни» и т. д. Памятуя о том, что для Мережковского свойственно мыслить антитезами, «безднами» («Христос» и «Антихрист»; «зло» и «благо»; «жизнь» и «смерть»), заметим, что онтологическую проблему смерти Мережковский решает аксиологически. Он пишет: «Цена всякой человеческой мудрости испытывается на отношении к смерти»107.
Источник жизненных страданий заключён, по мысли Мережковского, в «болезни культуры», неумении жить простой и естественной жизнью. Он считает, что вся послепушкинская литература заражена этой болезнью; единственное исключение – Кольцов, в котором Мережковский видит тот же «избыток радостной жизни», что и в Пушкине.
Своеобразное развитие идей Мережковского представлено в книге М. Гершензона «Мудрость Пушкина» (1919): «Самый общий и основной догмат Пушкина, определяющий все его разумение, есть уверенность, что бытие является в двух видах: как полнота и как неполнота, ущербность»108. Пушкин, по мнению мыслителя, один из немногих, в ком эти два вида бытия сочетались, порождая «гармоническое горение». В конце жизни поэт заразился «гниением» окружающей жизни – спокойным равнодушием, и это привело его к «угасанию». Гершензон сводит смысл пушкинского бытия к «чистой динамике» духа, хаотическому горению. К примеру, женитьба поэта воспринимается им как проявление ущербности, первая стадия «гниения». По мысли философа, всей своей жизнью поэт бросает вызов неполноте бытия, «ущербному, т.е. разумному существованию».
Другая позиция состоит в том, что Пушкин не нарушает законы бытия, а уточняет их и, подобно Христу, гибнет за свои убеждения. Эта позиция представлена, например, в статье С. Булгакова «Жребий Пушкина», который считает, что хотя «мудрость его светлого ума не всегда могла охранить от гибельных страстей, то для других он является советником, ценителем, руководителем (как, например, для Гоголя)»109. Булгаков противопоставляет человеческой мудрости Пушкина «второе солнце» – современника поэта преподобного Серафима Саровского. Полемизируя с точкой зрения В. Соловьева, философ выдвигает тезис: «Искусство не автоматично и не медиумично в своих вдохновениях, в нем совершается личное творчество, откровение личности <…>». Трагедию Пушкина Булгаков трактует трагедию выбора между «красотой нездешней» и «красотой земной». Катарсисом этой духовной трагедии философ считает героическую смерть Пушкина, воспринятую сквозь призму письма Жуковского отцу поэта, которое стало основанием для мифологического восприятия смерти поэта как «страстей Христовых».
По мнению современного философа М. Мамардашвили, Пушкин едва ли не единолично хотел создать историю в России, утвердить традицию семьи как частного случая Дома, как неприкосновенного исторического уклада, в который не может вмешиваться, ни царь, ни церковь, ни народ: «Для меня очевидно, например, что он был выведен на дуэль не зряшной физической ревностью. Действительно, „невольник чести“. Но чести не в ходячем, „полковом“ ее понимании, а чести как устоя бытия, как элемента чуть ли не космического осмысления порядка и меры. В ней он утверждал и защищал также и гражданское достоинство и социальный статус поэта, всякого человека мысли и воображения»110.
Как видим, философская мысль предлагает диаметрально противоположные толкования пушкинской биографии. Важно подчеркнуть, что во всех случаях речь идет все же не о конкретном человеке – Пушкине – скорее это представления о нем, позволяющие каждому из философов достаточно плодотворно иллюстрировать свою позицию относительно смысла человеческого бытия.
Наконец, необходимо сказать об аксиологическом аспекте пушкинского мифа. Разумеется, пушкинская биографическая легенда никакого специально выделенного учения о ценностях не несет, но когда человек ощущает дисгармонию с миром, тогда на помощь часто приходит Пушкин. Для русской культуры образ Пушкина стал той мифологической фигурой, которая принимается на веру потому, что без нее невозможны все последующие построения. Без пушкинского фундамента не может существовать сам дом русской литературы; согласно одному из образов-символов одноименного романа А. Битова, Россия представляет собой «Пушкинский дом».
Возьмем, к примеру, стихотворение Пушкина «Я вас любил…», которое является отправной точкой в шестом из «Двадцати сонетов к Марии Стюарт» И. Бродского. Лирический герой решает в отрицательном смысле гамлетовскую дилемму «быть или не быть» и уже выбирает висок, «в который вдарить». Но «задумчивость», помешавшая субъекту совершить роковой акт самоубийства, диктует поэту возвышение над собственными страданиями, полубожественный, как бы посмертный взгляд на земную жизнь. Мгновения любви невозвратимы и неповторимы («не сотворит – по Пармениду – дважды / сей жар в крови <…>»), потому что бытие, согласно мнению упомянутого древнегреческого философа, единственно и неуничтожимо, а значит, испытанное субъектом чувство объективно существует в качестве субстанции и будет существовать вне времени. В заключительных строках лирический герой как бы касается уст героини (ср. пушкинское «не совсем» угасшее чувство, длящееся в бесконечности бытия). В конце стихотворения Бродского исчезают вульгаризмы («пломбы в пасти»), на смену им приходит высокая лексика («бюст», «уст»), как бы символизирующая пушкинский «праязык».
Если подойти к пушкинскому мифу не просто аксиологически, но попытаться вычленить основания мифологической аксиологии, то мы никуда не уйдем от предельных крайностей мифа, от хаоса и космоса, белого и черного, в роли которых традиционно выступают Пушкин и Дантес.
Как видим, философские аспекты пушкинского мифа актуализируют его основные мифологемы, демонстрируя, что одни и те же события могут по-разному переживаться различными реципиентами (философами, критиками, писателями), а значит, и существовать в разных системах ценностей. Весь спектр прочтений формирует континуум пушкинского мифа и делает последний не только объектом познания, но и его инструментом. В этом параграфе мы имели возможность наблюдать, как крайности философского позитивизма и иррационализма нашли свое отражение в рецепции пушкинского мифа. Символическая философская критика заложила основы идеи, по-прежнему актуальной для русского менталитета, идеи мистической предопределенности рождения и гибели Пушкина, осмысление фатальной предрешенности его жизни и смерти в судьбе России и – шире – в судьбах человечества.
Схема традиционного сюжета о поэте
Важнейшими элементами сюжета о Пушкине являются рождение и смерть поэта. Рождение человека не всегда совпадает с рождением поэта – факт общественного признания на лицейском экзамене знаменует второе. Отсюда первая страница биографической легенды – чтение стихотворения «Воспоминания в Царском Селе» на лицейском экзамене, подробно описанная Пушкиным, как прозой, так и стихами111. Момент «передачи свирели», благословения, прижизненного признания «великими мира сего» является одним из важнейших факторов формирования мифа.
Ю. М. Лотман, описывая это событие в «Биографии писателя», в начале высказывания стремится предостеречь читателя от опасности мифологизации, но к концу его впадает в стилистически преувеличенный тон, что может свидетельствовать о попадании в зону мифа. Ср.: «Встреча Пушкина и Державина не имела в реальности того условно-символического (и уж, конечно, тем более театрального) характера, который невольно ей приписываем мы, глядя назад и зная, что в лицейской зале в этот день встретились величайший русский поэт XVIII века, которому осталась лишь полгода жизни, и самый великий из русских поэтов вообще»112. Как видим, мифологизирующее сознание настолько влиятельно, что подчиняет себе стилистику научного дискурса.
«Смерть поэта» (формула, закрепившаяся в национальном сознании благодаря одноименному стихотворению М. Лермонтова) – не менее важный этап его мифологизации. «смерть <…> его <…> была мгновенна и прекрасна» (VI, 452), – писал Пушкин о чудовищной смерти первого «Александра Сергеевича»113, Грибоедова. «Смерть поэта» ввиду тогда еще недавней гибели Байрона была возможностью композиционного завершения текста собственной жизни. В тщательности работы поэта над этим текстом можно убедиться, прочитав письма Пушкина Геккерну. По мысли Лотмана, высказанной в его пушкинской биографии, Пушкин не «искал смерти» и не был жертвой великосветских интриг (два устойчивых варианта мифологемы дуэли), а навязал дуэль противнику, желая волевым усилием изменить безвыходную ситуацию. Идея о том, что Пушкин был «мастером» своей судьбы, положенная в основу книги Лотмана («Пушкин умирал не побежденным, а победителем»), имеет свойство мифа, поскольку не может быть ни доказана, ни опровергнута. Эту идею подхватывает и развивает А. Битов в эссе «Предположение жить», в самом названии которого, по замыслу писателя, отражено желание Пушкина начать новую жизнь, но условием этой жизни была смерть «старого» Пушкина и рождение «нового»: «Вся схема его отчаянья в 36 году есть героическое преодоление этого отчаянья ради будущей, новой жизни <…>. Тот Пушкин сделал ВСЕ. Новый – только начал. Пушкин переменился. Это было трудно. Но его хватило на перемену ради будущей жизни. Не хватило Судьбы – второй не было дано. Пушкина хватило – Судьбы не хватило. Молитва его не дошла…»114. Мифологизирующая основа этого высказывания еще более прозрачна, чем эвристика Ю. Лотмана. Миф о Пушкине настойчиво накладывается на христианский миф, что подчеркнуто заглавием сборника эссе – «Моление о чаше».